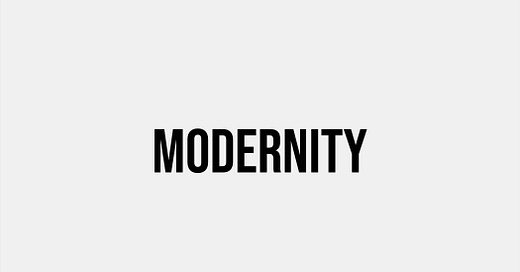Без обращения к истории философской, социальной и культурной мысли невозможно понять, как формируются способы мышления, система верований и практическое поведение. К сожалению, пришлось встать на табуретку и по этому поводу — слишком уж уверенно многие рассуждают о мотивациях и ценностях, не имея ни малейшего представления, откуда они вообще берутся.
Истоки модерна
Как историко-интеллектуальный проект модерн формируется с конца XVI — начала XVII века и окончательно кристаллизуется в XVIII веке, институционализация приходится на XIX век.
I. Протомодерн (ок. 1550–1650)
Фрэнсис Бэкон (1561–1626) — предложил индуктивный метод и идею знания как инструмента власти («знание — сила»).
Рене Декарт (1596–1650) — заложил фундамент рационализма, сформулировал автономный субъект мышления.
Галилео Галилей и Исаак Ньютон — дали научную модель природы, основанную на измерении, механике и универсальных законах.
Основная идея этого периода: разум — источник знания; природа — объект расчёта; знание — инструмент управления.
II. Просвещение (ок. 1680–1800)
Иммануил Кант — зафиксировал идею автономии субъекта и призвал к «выходу из состояния несовершеннолетия» через разум.
Жан-Жак Руссо, Вольтер, Дидро — секуляризация морали, вера в прогресс, права человека.
Адам Смит — рационализация экономики, идея саморегулирующегося порядка.
Основная идея: история имеет направление; прогресс достижим; универсальные нормы существуют и подлежат внедрению.
III. Модерн как социальный проект (XIX век)
Огюст Конт — позитивизм и идея «научного управления обществом».
Карл Маркс — концептуализация истории как управляемого процесса.
Гегель — история как развёртывание разума.
Макс Вебер — рационализация как ключ к пониманию модерного общества.
Господа пришли к выводу, что обществом можно управлять рационально, исторический процесс поддаётся теоретической инженерии, а человек — и объект, и субъект преобразования.
Что такое модерн
Модерн — это не просто историческая эпоха, а образ мышления. Он основывается на вере в прогресс, разум, универсальные истины и способность человека к рациональной самоорганизации. В его ядре — идея, что история имеет направление, а общество — структуру, поддающуюся инженерии. Это эпоха Просвещения, научной революции, индустриализации, либеральной демократии и социализма — проектов разных по содержанию, но одинаково модернистских по своей логике.
Модерн начинался с отказа от теоцентризма. Вместо бога — разум. Вместо откровения — метод. Вместо порядка свыше — порядок, выведенный из природы или истории. Политические режимы, экономические теории, социальные реформы — всё предполагалось выстраивать как машину. Рационально. Эффективно. С опорой на универсальные принципы.
Социальные и политические формы модерна
В XX веке модерн породил две великие формы: либеральный капитализм и плановый социализм. Обе — дети одного проекта, несмотря на кажущуюся противоположность. Обе верили в возможность рационального управления обществом. Обе лепили нового человека: рационального, функционального, заменимого.
Научно-технический прогресс, урбанизация, создание массового общества, стандартизация образования, институты модернизации — всё это было выражением уверенности, что человек может и должен подчинить мир своему разуму.
Крах модерна
Модерн рухнул не одномоментно. Это был процесс эрозии, начавшийся после Второй мировой. Основные удары были изнутри.
Модерн предполагал единый путь развития для всех стран и народов. Но историческая практика показала, что универсалии плохо переносятся в другие контексты. Модернизация часто приводила к авторитаризму, насилию и коллапсу (Латинская Америка, Ближний Восток, Африка).
Чем больше рационализации приносил модерн, тем меньше оставалось места для свободы. Бюрократизация, техническое управление, отчуждение — следствия попытки всё организовать.
Крах нацизма, затем крах советского проекта (об этом ниже) окончательно подорвали доверие к большим схемам. Постмодерн родился именно как отказ верить в метанарративы — будь то либерализм, коммунизм или прогресс.
Сдвиг в сторону релятивизма и плюрализма обесценил модернистскую идею объективного знания как универсальной основы.
Социалистические иллюзии как катализатор краха
Советский проект был наиболее радикальной и последовательной попыткой реализовать модерн. Он предложил альтернативную универсалистскую модель — не рыночную, а историко-диалектическую, с претензией на знание законов развития и возможностью их институционального применения. Логика проекта была предельно прямолинейна: если история развивается по законам, и эти законы известны, значит, историей можно управлять. Отсюда — партия как носитель разума, план как форма порядка, насилие как допустимый механизм трансформации. Не как сбой, а как системный инструмент модерна.
Однако именно эта внутренняя последовательность обернулась системной катастрофой. Насилие, встроенное как инструмент рациональной перестройки, быстро стало механизмом дегуманизации: человек превращался в материал, подлежащий переработке ради идеального будущего. Экономика оказалась устойчиво неуправляемой — командно-административная модель не выдержала столкновения со сложностью реальности, и причина заключалась не в недостатке демократии, а в иллюзии полного расчёта. Идеология утратила связующую силу: к 1980-м вера сохранялась лишь в виде ритуала. В результате крах советской альтернативы стал не просто концом конкретной политической системы, он стал доказательством: даже самый амбициозный проект рациональной инженерии общества заканчивается не утопией, а развалом, цинизмом и тиранией.
После 1991 года мир перестал верить не только в коммунизм. Он перестал верить в возможность универсального прогресса. Конец истории оказался не триумфом модерна, а переходом в постмодерн.
Наследие и развалины
Сегодня модерн жив в виде инфраструктуры: железные дороги, университеты, правовые системы, научный метод, государственные границы. Но как проект — он мёртв. Современное сознание больше не верит в то, что можно улучшить общество с помощью разума, универсальных ценностей и теоретических моделей.
И либеральный модерн, и социалистический модерн провалились. Один — через внутреннюю пустоту и рынок, другой — через диктатуру и план. В этом крахе социализм был не просто жертвой, а главным экспериментом, чьё поражение сделало невозможным повторение модернистской уверенности. ■